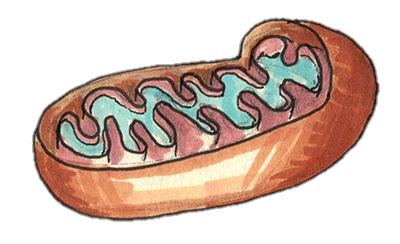Максим Винарский: о пути в науку, систематике и внедрении высокотехнологичных методов оценки биоразнообразия
20 июля 2022
Максим Винарский: о пути в науку, систематике и внедрении высокотехнологичных методов оценки биоразнообразия
- 501
- 0
- 2
Максим Винарский.
фото Евгения Гурко
-
Автор
-
Редакторы
-
Иллюстратор
Максим Винарский — биолог, доктор биологических наук, заведующий Лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ. Область научных интересов — изучение моллюсков, биологическая систематика, в первую очередь, беспозвоночных животных.
Разговоры за жизнь
За последние полгода мир вокруг нас изменился. Наука не осталась в стороне от этого. Тем не менее, области знаний, которыми интересуются ученые в России и за рубежом, остались те же. Совместный со Сколтехом и Российским научным фондом медиапроект «Разговоры за жизнь» — цикл интервью известных ученых о своей работе, пути в науке и поиске вдохновения.
— Максим, добрый день! И первый вопрос: почему биология? Как вы вообще этим заинтересовались?
— Я обычно на такие вопросы отвечаю, что это судьба (смеется). Меня всегда это увлекало, сколько себя помню, поэтому у меня как-то даже вопроса не стояло, почему.
— Ну, может быть, вы в школе что-то такое узнали и подумали: «О, здорово!». Я вот однажды, например, нашла энциклопедию в канаве по, кстати, тоже биологии, про растения, и меня это увлекло на следующие 10 лет. Может быть, у вас был тоже какой-то яркий эпизод?
— Все началось с энциклопедии: сначала это была большая советская энциклопедия, 2-е издание, та, которая еще сталинская-хрущевская. В ней было много всякой информации, картинок, может быть, интерес пошел оттуда, но сейчас ретроспективно об этом сложно сказать.
— А в школе какая у вас оценка по биологии была?
— У меня всегда была «пятерка», поскольку мне всегда это было интересно, и проблем с ней никогда не было.
— Учительница вас как-то выделяла?
— Да, мне повезло с учителем. У меня была очень хорошая учительница биологии, закончила тогда еще Ленинградский Государственный Университет, и она всегда поддерживала меня, всегда, действительно, выделяла. Правда ей хотелось, чтобы из меня получился какой-нибудь генетик или вот что-то такое более возвышенное. Но вышло то, что вышло. А так — да. Ну, благо, в школе я фактически не имел дела ни с какими станциями юннатов и прочее, поскольку потом я с ними связался и понял, что там мой интерес к биологии скорее всего отбили бы занятия с какими-то посадками и кроликами. Поэтому я фактически сам все это делал и сам до всего доходил.
— Почему вы пошли в систематику вдруг?
— Мне всегда нравилась сама идея классификации организмов, возможность разложить все многообразие по полочкам. Дать каждой твари, что называется, имя. Видимо, это связано со складом ума, потому что систематика — это, в значительной степени, не только научная профессия, но и призвание. Какая-то именно умственная способность к рациональному взгляду на мир, где все четко, однозначно, все имеет свои названия — это такой наш идеал. Который еще не достигнут, кстати, хотя вот уже более 2000 лет люди к нему идут. И фактически, систематика — это, как я считаю, еще и немножко эзотерическая наука, потому что для того, чтобы ей заниматься, нужна, действительно, особая склонность.
— Какое место систематика занимает по отношению к другим наукам о жизни?
— Сейчас систематика — это все-таки часть более общей научной программы, которую мы условно называем «описание биологического разнообразия». Туда входит и часть эволюции, экологии, биогеографии. С одной стороны, это, безусловно, одна из самых фундаментальных биологических наук, потому что любое биологическое исследование всегда начинается с идентификации организма. Пусть даже это самая всем известная муха дрозофила, Drosophila melanogaster, пусть это белая мышь, пусть это какой-нибудь круглый червь, Caenorhabditis elegans. Но все эти организмы носят научное латинское название, все они занимают какое-то место в общей таксономической картине мира, и поэтому всегда начинается с определения того, что это за организм, какому виду он принадлежит.
С другой стороны, так сложилось, что очень часто сейчас систематика воспринимается как наука архаическая, устаревшая. Как наука, которая находится глубоко в тени той же самой молекулярной генетики, биотехнологии. А для многих биологов, особенно для начинающих, систематика вообще воспринимается как какой-то пережиток, потому что в некоторых своих чертах она так и не изменилась за последние несколько веков. Поэтому, к сожалению, современная литература по систематике полна жалоб на то, что систематику недооценивают, что она получает гораздо меньше финансирование. Причем это глобальный такой тренд, совершенно не только российский.
Поэтому с одной стороны, систематика — это основа основ, и с другой стороны, как ее назвал один автор, это «Золушка биологии», потому что ее недооценивают, не любят, что вызывает у части систематиков такой своеобразный комплекс неполноценности.
И еще очень важно, что до сих пор систематика — это, наверное, единственная биологическая наука, в которой огромную роль играют непрофессиональные ученые, любители. Это люди, которые могут не иметь даже биологического образования, они могут работать врачами, инженерами. Даже был такой швейцарский систематик насекомых, на весь мир известный специалист — он был сельским почтальоном и в свободное время занимался классификацией, если не ошибаюсь, водных клопов. Со стороны академического сообщества это очень часто воспринимается несколько снисходительно, что, мол, таксономия или систематика — это до сих пор то место, где можно быть непрофессионалом, делать что-то, грубо говоря, у себя на кухне. Здесь тоже такая специфика, которую очень часто воспринимают как признак отсталости, архаичности. Поэтому у нас все довольно сложно.
— Такое отношение к ней, естественно, именно в биологических кругах?
— Да, конечно. В истории систематики произошла очень любопытная метаморфоза. Нынешняя систематика, и ботаническая, зоологическая, начинаются с середины XVIII века, с великого Карла Линнея. Конечно, и до Линнея были систематики, но именно он заложил основы научного классифицирования, которыми мы до сих пор пользуемся. В середине XVIII века Линней был одним из величайших и наиболее известных ученых Европы, его известность сравнима с нынешней известностью Хокинга. Почему? Потому что в те годы к систематике относились гораздо лучше. Линней был вхож в шведскую королевскую семью, его знали по всей Европе, а уже 100 лет спустя, когда появились экспериментальные области биологии, такие как физиология, биология развития, потом, чуть позже, генетика, систематика стала выглядеть вот именно вот этой «Золушкой», которая до сих пор живет какими-то вот первобытными методами, не использует никаких экспериментальных подходов. И уже в эпоху Дарвина начался отток и светлых умов, и кадров, и денег, и рабочих мест из области систематики вот в эти вот новые, продвинутые дисциплины.
И вот в начале XX века систематика полностью потеряла всякий престиж среди биологов. Ее начали игнорировать, считать занятием отживших свое музейных энтомологов. Если вы помните, был такой роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Там есть замечательный герой, кузен Бенедикт — абсолютно положительная личность, эдакий чудаковатый добрый дядюшка. Так вот, это карикатура на систематику. Кузен Бенедикт не видел ничего, кроме своих насекомых, и Жюль Верн в своем произведении отразил представление массовой культуры о том, что такое систематика. В значительной степени такой образ сохранился и в XX веке. И только на рубеже XX–XXI веков ситуация начала очень сильно меняться.
— Что же произошло?
— Около 100 лет назад началось обсуждение того, что же делать дальше. Выход был найден следующий: дело в том, что и Линней, и многочисленные последователи Линнея классифицировали организмы, я бы так сказал, интуитивно. То есть Линней, если вы откроете его работу, нигде не пишет точно, почему он считает тот вид или другой вид раздельными. Почему? Потому что вся процедура классификации традиционно основывалась на этом персональном, личностном знании, когда человек, много-много работая со своими объектами, начинает понимать, не осознавая этого, каким образом их можно разложить по полочкам. Но делая это, он очень часто даже сам себе не может объяснить, почему он это так делает. У Линнея есть знаменитый афоризм: не признак определяет род, а род определяет признак. Что это значит? Это значит, что сначала систематика раскладывает, в данном случае, растения, на рода, и только потом начинает подыскивать, как их отличить друг от друга.
В эпоху Линнея, опять же, в середине XVIII века все было нормально, но в конце XIX — начале XX века это уже считалось полностью отжившим. Появляется атомная физика, химия, вот эти все экспериментальные области биологии. Резерфорд вообще обронил, что все знания делятся на физику и собирание марок. И вот в начале XX века систематики в России и в других странах начали думать, что же с этим делать, и был найден очень простой выход: давайте будем как физики и применять как можно более точные методы познания, широко использовать математику, экспериментальные подходы. И вот этот тренд, в начале XX века только начал осознаваться, в течение всего дальнейшего развития систематики он только усиливался.
В конце XX века мы подошли к тому, что называется молекулярной эволюцией в систематике. Произошло следующее: с помощью открытия молекулярной генетики ученые получили возможность использовать для классификации не только морфологические признаки, но и в первую очередь генетические. То есть появилась возможность расшифровывать первичную нуклеотидную последовательность ДНК и сравнивать последовательности генов у разных организмов. С помощью статистических методов теперь ученые могли определять объективную количественную степень сходства и различия между видами. То была изгнана всякая интуитивность, достигнут такой «физикалистский» идеал знания, основанного на точности, на повторяемости, на верифицируемости.

Максим Винарский в стенах университета.
фото Евгения Гурко
— Но можно ли сказать, что систематика — точная наука?
— Она очень хочет быть точной, но честно вам скажу, что до сих пор значительную роль играет вот эта самая, всеми проклятая, интуиция. То есть систематика — это одна из немногих биологических наук, в которой обсуждается вопрос: «А что она такое — искусство или точная наука?». И, видимо (это мое субъективное мнение), все равно она никогда не станет абсолютно точной. Объясню, почему. Самый очевидный пример — это ископаемые. Ведь биологическая систематика занимается не только ныне живущими организмами, она включает в себя и все вымершие, а с вымершими у нас возникает большая проблема, потому что в подавляющем большинстве случаев генетическая информация недоступна. И это полбеды, доступно только то, что сохраняется в ископаемой летописи, то есть твердые ткани: кости, зубы, раковины, ну, иногда отпечатки. А все остальное просто уходит. Поэтому палеонтолог-систематик все равно будет основываться на каких-то интерпретациях более или менее достоверных. Это тот пласт систематики, в котором, к сожалению, точности, которой мы бы все желали, до сих пор не удалось достичь, и, видимо, никогда не удастся.
— Сейчас много говорят об эпохе шестого массового вымирания. Сможет ли систематика стать эдаким супергероем, который всех спасет, или какую роль она будет играть?
— Давайте сначала про вымирание. Всего палеонтологи насчитали в истории Земли пять массовых вымираний, из которых самое мощное было на рубеже пермского и триасового периодов, когда по разным подсчетам вымерло 90 процентов видов. Но когда мы вот эти все красивые цифры обсуждаем, надо понимать, что это происходило несколько миллионов лет, то есть там никакого Апокалипсиса не было, как часто в научпопе изображают. Виды вымирали постепенно, и вот это шестое вымирание, о котором сейчас так много говорят, оно отличается одной особенностью — темпами. То, что мы наблюдали в прошлом в течение миллионов лет, происходит сейчас за сотни лет, то есть интенсивность вымирания (хотя, конечно о 90-процентном исчезновении пока, к счастью, речь не идет), на несколько порядков выше, чем в геологическом прошлом. Естественно, чтобы это остановить, необходимо понимать, а кого, где и как мы должны спасать, условно говоря. А без первичной информации это невозможно сделать. Поэтому систематика здесь выполняет фундаментальную роль, она занимается в данном случае описанием биологического разнообразия.
Если не выполнить эти условия — не описать, не назвать, не классифицировать — будет непонятно, кому, что и где охранять. Если вы откроете любую Красную книгу, там все очерки животных начинаются с таксономического положения. Чтобы не быть голословным, есть замечательная история о жирафах. Всех учили, что жираф — это один вид в Африке. А потом выяснилось, что один вид — это четыре вида жирафа, которые даже не скрещиваются между собой. Когда генетики обнаружили это, сначала был скандал, традиционные систематики восстали. Но потом были найдены морфологические и другие признаки, и это важно, поскольку жираф жирафу рознь, оказывается, и соответственно, для целей сохранения биоразнообразия крупных копытных Африки, нам без систематики не обойтись.
Но одно дело жирафы, носороги, гориллы. Это животные, которые в нашем деле называются харизматическими видами — они всем известны, все знают, что они исчезают и что их надо охранять, в них вкладываются огромные деньги. Но при этом все забывают, что 95 процентов животных — беспозвоночные, которых никто не видит и не слышит.
Есть очень серьезные опасения, что большая часть видов, которые сейчас вымирают, вообще не описаны специалистами. Это называется «молчаливое вымирание». Когда мы считаем интенсивность вымирания сегодня и сравниваем это с прочими вымираниями в прошлом, мы забываем о том, что значительная часть видов вообще остается не описанной. Но почему это так? В значительной степени потому, что люди традиционно тянутся к более привлекательным или важным для них объектам. Возьмем, например, паразитов. Очень хорошо описаны паразиты человека, домашних животных, культурных растений, а вот паразиты диких животных практически не известны. Просто потому что ими некому заниматься — нет достаточного количества специалистов, которые потратят свою жизнь на описание, допустим, нематод, паразитирующих в каких-нибудь там тропических лягушках. Поэтому можно сказать, что темпы шестого вымирания даже занижены, просто потому что мы не учитываем огромное количество неописанных видов.
— Можно ли тогда говорить о том, что мы в принципе представляем, сколько видов живых организмов на Земле?
— Для этого существуют статистические методы, методы экстраполяции, когда, используя данные о постепенном описании видов в той или иной группе, можно сделать прогноз о том, сколько осталось еще открыть. Естественно, это тоже оценка, и она имеет вероятность, но, как и любой практический научный прогноз, он имеет более-менее достоверные сценарии. Систематика дает знание, которое носит характер постоянного уточнения. Есть вещи, которые, я думаю, не поменяются никогда — допустим, то, что человек — это член отряда приматов, а приматы — это часть млекопитающих, и таких случаев достаточно много. Другое дело, что есть группы животных, о которых информации до сих пор недостаточно, и вокруг них очень много споров. Но это же нормально, ведь появляются новые технологии.
— Если говорить о современности, то какие яркие события происходили в вашей области, за последние 10 лет?
— Пожалуй, самым главным событием стало как раз широкое внедрение продвинутых технологий для разрешения традиционных таксономические задач. Это и молекулярные методы, и методы компьютерного анализа изображений, и перспективы использования искусственного интеллекта. Недавно я получил письмо от своего коллеги из Германии, он в огромном восторге и надеется, что как только будут разработаны методы искусственного интеллекта, все встанет на свои места и задача описания фауны будет решена. Я, честно говоря, скептически к этому отношусь, поскольку я знаю историю систематики. Любой научный метод — это все-таки инструмент, его результаты интерпретируются людьми. Даже если мы будем использовать самые продвинутые методы искусственного интеллекта, все равно останется какая-то часть для человеческого разума, хотя тенденция, конечно, все идет к тому, что чем больше мы развиваемся, тем больше и больше отдается на откуп компьютерам.
Но все же ценность систематики в том, что в ней не существует никакого деспотического контрольного органа, который бы всех обязывал действовать в строго определенном ключе. То есть если вы имеете доступ к секвенатору нового поколения и можете считывать и сравнивать целые геномы, то с точки зрения систематики ваш вклад ничем не хуже вклада простого любителя, который классифицирует букашек по морфологическим признакам на своей кухне. В нашей науке до сих пор соседствуют и очень традиционный, и очень высокотехнологичный метод. И это, наверное, хорошо. Как говорил Мао Цзэдун: «Пусть расцветают сто цветов!».
— А как вы смотрите на передачу систематики на откуп искусственному интеллекту?
— С одной стороны, я понимаю, что объективно это тренд, от которого мы не уйдем. И кроме того, этот метод, если его нормально разработать, даст какую-то новую информацию, которую надо будет каким-то образом использовать. То есть я не являюсь противником. Меня беспокоит именно то, что я бы назвал дегуманизацией систематики, когда традиционное знание о животных подменяется либо компьютерной программой, либо чисто генетическими упражнениями. Это приводит к тому, что люди утрачивают непосредственное знание о животных, оно сводится к последовательностям ДНК или каким-то математическим моделям. Мне это кажется с философских оснований не совсем правильным: то есть мы утрачиваем единство взглядов на мир, утрачиваем представление о животном как таковом, сводим его к набору каких-то диагностических или псевдо-диагностических признаков. И с гуманистических позиций мне этот тренд не очень нравится, хотя я абсолютно признаю и его необходимость, и даже вполне понимаю почему так происходит. Это опять же часть борьбы систематики за место под солнцем, еще один этап ее превращения в настоящую точную науку.
Беда только в том, что этот тренд может привести к убийству систематики как таковой. Чтобы этого не произошло, она должна стать частью составной частью науки о биоразнообразии в широком смысле. В этом случае, наверное, у нее есть шанс на сохранение.
— Есть ли сегодня открытые вопросы, которые волнуют лично вас?
— Вся деятельность систематика сводится к решению одного большого вопроса: сколько видов на земле, как их классифицировать и как их называть? Каждый из нас работает с очень маленьким кусочком пазла. Представьте себе огромную мозаику, сделанную из отдельных камней, и каждый систематик, наверное, стремится дойти до максимального совершенства, в своей области.
Но мы отлично понимаем, что пройдет 50, даже 25 лет, изменится методология, изменятся взгляды и наша система устареет. То есть систематик — это человек, который, с одной стороны, работает для будущего, но с другой стороны, понимает, что его вклад не перевернет биологическую картину мира. Это знаете, как в Европе средневековый готический собор могли строить 100, 150, 200 лет. И систематик — это каменщик, который работает над фундаментом собора, понимает, что никогда в жизни не увидит, что это за собор будет, как он будет выглядеть, но все равно вносит вклад в общее человеческое знание.
В нашей науке опубликованный труд никогда не устареет. Если вы сделали действительно хорошую работу, она будет существовать ровно столько, сколько существует, если не человечество, по крайней мере задача классификации. Сказанное вами слово, оно не исчезнет, не забудется — даже если мнение было ошибочно, к нему все равно вернутся и будут обсуждать.
Кроме того, если вы описали новый вид, то вы как автор его сохраняете навсегда. Это отчасти и проблема — немножко тщеславное стремление к бессмертию. То есть открыть новый вид, дать ему название, увидеть свое имя в списке таксонов. С одной стороны, это стимул, а с другой стороны, к сожалению, приводит к тому, что систематики описывают виды часто не подумавши, не собрав необходимые доказательства. Это человеческая слабость — и ее, конечно, можно порицать, но, наверное, она простительна. Хотя, конечно, в некоторых случаях это создает серьезные трудности.
— Есть ли у вас любимый «кусочек пазла»?
— Я, начиная со своей дипломной работы, до сих пор в основном занимаюсь одним семейством пресноводных моллюсков — так называемыми прудовиками, которых все в школе изучают — и все никак не могу с ними разобраться. Начинал с описания фауны одного крупного города, сейчас работаем уже на глобальном масштабе, но конца и края этому не видно.
Кроме того, сейчас эти мои улитки стали частью более масштабного проекта, поддержанного грантом Российского Научного Фонда, который посвящен происхождению и эволюции пресноводной биоты Арктики. Изучение прудовиков позволяет понять процессы, происходившие в прошлом, например, миграцию пресноводных животных через сухопутный мост, существовавший в плейстоцене на месте нынешнего Берингова пролива. Это как раз тот случай, когда результаты работы систематика начинают «работать» в другом контексте, помогая решению задач эволюции, биогеографии, палеоэкологии.
— А почему именно они?
— Получилось так, что просто мне дали их как тему дипломной работы, а потом, когда я начал копать глубже, стало понятно, что там еще очень много что можно сделать. И чем больше закапываешься, тем больше вопросов появляется.
— Может ли случиться так, что однажды мы опишем все виды и систематика как наука «закончится»?
— Теоретически, конец, наверное, возможен. Но если опираться на нынешние оценки биоразнообразия, то я не берусь сказать, когда он наступит. Кроме того, мы с вами уже толковали о том, что каждое новое поколение получает новый научный инструментарий, и соответственно, вся эта работа в значительной степени начинается заново. Поэтому, я думаю, что пока будет существовать человечество, в той или иной степени систематика не закончится. Она может закончиться как область биологии, как накалывание бабочек на иголки, но как задача научная она, я думаю, никуда не денется.
Абсолютно не случайно Чарльз Дарвин назвал свой труд не «Эволюция», а «Происхождение видов», то есть вид — это фундаментальная единица, с которой работают все, а что такое вид, как эти виды различать и называть, знают только систематики. Поэтому вот в этом таком общефилософском смысле, я думаю, что у систематики конца нет, как нет и у астрономии, и ядерной физики, и у прочих наук.
— Как ваша наука будет развиваться в будущем? И с какими сложными вызовами она столкнется?
— Основные вызовы связаны именно с самоидентификацией систематики как науки, которая постоянно вынуждена доказывать свое право на существование. Практикующий систематик всегда чувствует к себе отношение, как к человеку, занимающемуся какой-то второстепенной деятельностью. Сейчас идет очень слабое воспроизводство молодых ученых: мало кто может, хочет посвятить свою жизнь этой не очень благодарной деятельности. Это может только человек, для которого действительно, систематика — это призвание, и уже потом средство сделать какую-то академическую карьеру. Поэтому систематика, она, как высокая поэзия, всегда останется уделом немногих.
Пессимистический сценарий — систематики не существует как отдельной биологической дисциплины, и она становится просто разновидностью филателии, а классификация полностью отдается на откуп искусственному интеллекту. Оптимистический заключается в том, что систематика сохраняется, живет, обновляется, совершенствуется и сохраняет свое заслуженное место среди других научных дисциплин.
А технологии я брать не берусь, потому что еще 20–30 лет назад было совершенно невозможно предсказать то, как мы будем жить сейчас. Вот вам маленький пример: 30 лет назад заниматься систематикой по-настоящему можно было в 5–6 городах мира, где есть хорошие библиотеки. Сейчас же 90 процентов того, что нужно, мы получаем не выходя из дома благодаря онлайн библиотекам. Это фантастический перелом в судьбе систематики. Информация перестала быть уделом избранных. Я думаю, что систематика через 50 лет будет вся кибернетической, и перейдет в онлайн в виде баз данных, которые можно будет пополнять в реальном времени. И любая таксономической информация, даже детальная, будет доступна любому человеку по буквально одному нажатию клавиши. Ну и, разумеется, я думаю, что будут очень развиты такие методы искусственного, ну пусть не классифицирования, но определения объектов. В целом, систематика будет максимально использовать достижения научно-технического прогресса, а какие именно, я не берусь предсказывать. Футурология известна как наука, славящаяся максимальным количеством несбывшихся прогнозов.
— Есть ли у вас какая-то большая мечта?
— Видите ли, когда мы говорим о приходе в науку, то обычно большие мечты — они очень, очень расплывчатые. Но когда человек начинает заниматься исследованиями, он в процессе понимает, что многое надо сделать. Его сознание меняется, он начинает ставить перед собой какие-то новые задачи.
И большой мечты, такой как спасение человечества от чего бы там ни было, у меня не было. Мне просто всегда нравилась систематика и хотелось заниматься ей профессионально, посвящать этому свою жизнь. В общем, у меня это получилось, хотя, конечно, не сразу, не легко — но путь никогда не бывает устлан розами. Пожалуй, моей большой мечтой было как раз принимать участие в этом огромном деле описания биоразнообразия, вносить свой скромный вклад, и чувствовать свою потребность и нужность. И действительно, когда ко мне обращаются из Союза охраны природы или из какого-нибудь заповедника за консультацией, я понимаю, что я, наверное, кому-то нужен, и что мои занятия с улитками — это не только чисто для собственного удовольствия, но и общественно полезная деятельность, которая может быть никем другим не сделана. Ученые такие же люди, мы тоже нуждаемся в комплиментах, признании наших заслуг. И это не только то, сколько раз тебя процитировали, но и то, чувствуешь ли ты себя востребованным как специалист, как эксперт. Пусть в очень маленькой, в очень узкой области, но тем не менее это тоже очень важно и почетно.