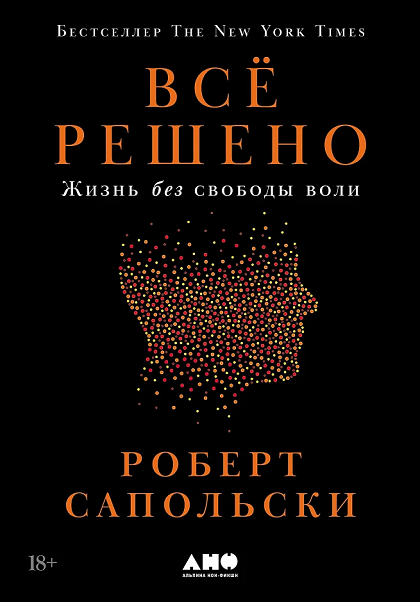Роберт Сапольски: «Всё решено: Жизнь без свободы воли». Рецензия
23 августа 2025
Роберт Сапольски: «Всё решено: Жизнь без свободы воли». Рецензия
- 428
- 0
- 0
Роберт Сапольски. «Всё решено: Жизнь без свободы воли». М.: «Альпина нон-фикшн», 2025. — 534 с.
-
Автор
-
Редактор
Свобода воли — есть или нет? Мир — детерминирован или нет? Способны ли мы повлиять на то, как будут развиваться события, или все предопределено задолго до нашего появления?
Известный просветитель Роберт Сапольски считает, что все предрешено и свободы воли не существует, — ведь ученым не удалось обнаружить свободу воли ни в генах, ни в нейронах, ни в электрической активности мозга, ни в экспериментах, где людей подталкивали к тем или иным действиям, но заставляли думать, что это их свободный выбор. А потому апеллировать к свободе воли в суде тоже бессмысленно — ведь мы не более чем сложные биологические автоматы, программируемые окружением.
Оценка «Биомолекулы»
Качество и достоверность: 6/10
(0 — очень сложно, 10 — легко)
Легкость чтения: 8/10
(0 — очень сложно, 10 — легко)
Оригинальность: 7/10
(0 — похожих книг много, 10 — похожих книг нет)
Кому подойдет: поклонникам Роберта Сапольски и людям, интересующимся вопросами свободы воли
Сразу хочу предупредить: мне не понравилась эта книга. Причем не понравилась заранее, поэтому я изначально читала ее с большим скепсисом. Краткое изложение идей Роберта Сапольски приведено выше, а дальше последует небольшой разбор позиции автора и немного размышлений о том, можно ли примирить свободу воли с материалистическим взглядом на природу человека и формирующие его биологические механизмы.
Это далеко не первая книга Роберта Сапольски. Более того, она стала логическим продолжением (или завершением?) прошлой книги — «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки», и некоторые разделы новой книги — это просто краткий пересказ того, что Сапольский написал раньше. Но если до этого основной упор делался на биологические и небиологические факторы, которые влияют на поведение, то в этой акценты смещены: человек и его решение — не более чем сумма биологических факторов и влияний внешней среды. По мысли Сапольски, если тебе не повезло с генами, гормонами и родителями, то мало что сможет уберечь тебя от кривой дорожки, ведущей к преступности и тюрьме. Если чья-то рука нажала курок на пистолете и выстрелом был убит человек, глупо вешать на преступника ответственность за убийство, ведь оно было предопределено всем тем, что произошло до этого. Он не виноват — это всё его электрические потенциалы, его слабая префронтальная кора, его активная миндалина, его высокий адреналин и неудачный расклад в генах.
Книга поделена на две части. В первой Сапольски приводит аргументы, призванные убедить читателя: никакой свободы воли нет, а во второй рассуждает, как смена установки поменяет нашу жизнь и правосудие.
Итак, по мнению Сапольски, мир детерминирован. Где-то ближе к концу первой части автор неохотно признает — да, в основе материи лежит квантовая механика, где ни о какой детерминированности нет речи, но стоит нам сдвинуть ползунок в макромасштаб, как любые вероятности из действительности полностью исчезают. Нет никаких альтернатив и никаких шансов повлиять на развитие событий. Все, что произойдет спустя минуту, день и тысячелетие от настоящего времени, было предопределено в момент большого взрыва.
Позицию людей, которые считают мир недетерминированным и допускающим свободу воли, Сапольски сразу объявляет редкой, и поэтому особо не рассматривает. Если коротко, то это как раз мой взгляд на мир: я не считаю недетерминированность мира таким уж редким взглядом. В моем представлении, способность объяснить уже случившиеся события никак не отменяет возможность того, что они не были предопределены. О том, как квантовая механика укладывается в детерминированный мир, Сапольски не уточняет, но с порога заявляет, что вероятностная природа частиц ничего не меняет. Что позволено электрону, не позволено психике и разуму, и уж тем более — мирозданию. Впрочем, от философских концепций, в которых свобода воли вполне уживается с детерминизмом, Сапольски тоже отмахивается: вместо того, чтобы разобраться в разных возможностях такой свободы (это далеко не единая позиция) и привести контраргументы, Сапольски предпочитает время от времени просто бросать в адрес оппонентов издевательские и насмешливые комментарии. Высмеять оппонентов — немного не то же самое, что аргументированно возразить, но так, конечно, эффектнее и проще.
В книге Сапольски показывает, сколь многое может объяснить современная наука, когда дело касается простых составляющих, из которых строится сложный организм. Редукционизм автора — стремление свести происходящее в сложном мире к свойствам его элементов — в книге доведен до абсолюта, едва не переходящего грань абсурда. Пожалуй, самым наглядным образом абсурдность позиции изложена в следующем абзаце (хотя самому Сапольски приведенные аргументы, по-видимому, кажутся неотразимыми):
И вот задачка для тех, кто верит в свободу воли: покажите мне нейрон , который запустил этот процесс в мозге, нейрон, потенциал действия в котором возник без всякой причины, с которым не связывался непосредственно перед этим никакой другой нейрон. А потом докажите, что работа этого нейрона не зависела от того, был ли стрелявший уставшим, голодным, испытывал ли стресс или боль, что на нейрон не повлияли образы, звуки, запахи, которые человек ощущал за несколько минут до выстрела, уровень гормонов, мариновавших его мозг на протяжении предыдущих дней и часов, и тот факт, что он, допустим, пережил несколько месяцев или лет тому назад событие, изменившее его жизнь. И докажите мне, что на этот своевольный нейрон не повлияли ни гены стрелявшего, ни пожизненные изменения в регуляции этих генов, вызванные пережитым в детстве; не повлияли гормоны, действию которых он подвергался в материнской утробе, когда формировался его мозг. Не повлияли столетия исторических событий и экологических факторов, сформировавших культуру, в которой он вырос. Покажите мне нейрон, который был бы беспричинной причиной в полном смысле этого слова. Выдающийся философ-компатибилист Альфред Мили из Университета штата Флорида твердо убежден, что требовать от свободы воли чего-то в этом духе — значит, задирать планку на «абсурдную высоту». Нет, планка эта не абсурдна и не высока. Покажите мне нейрон (или мозг), порождающий поведение независимо от суммы своего биологического прошлого, и в рамках этой книги вы продемонстрируете мне свободу воли. Задача первой половины книги — показать, что это невозможно
Хотя в книге нет внятного объяснения, что сам Сапольски определяет как свободу воли, из приведенного фрагмента можно сделать определенные выводы. Похоже, он продолжает традицию бихевористов, избегающих в своих рассуждениях понятий, к которым невозможно подойти с таймером, микроскопом или спектрометром, которые невозможно выразить в децибелах, амперах и ангстремах, описать графом или изящным уравнением. Короче, материалист Сапольски видит свободу воли ни много ни мало как божью искру, и очень убедительно доказывает, что никакой божьей искры наука не нашла ни в генах, ни в гормонах, ни в нейронах. Беспричинной причинности в наблюдаемых событиях никогда не обнаруживается. Все, происходящее в материальном мире, имеет материальные причины. А то мы не знали.
Неотразимый с точки зрения автора аргумент для меня выглядит довольно глупым. Вообще говоря, не очень понятно, почему Сапольски требует именно нейрон свободы воли. Почему не рецептор свободы воли — который бы активировался «нипочему» в тот момент, когда мы принимаем решение? Или ген свободы воли — на котором из ниоткуда появлялась бы РНК, каждый раз, когда перед нами встает трудный выбор? Или электрический импульс свободы воли, возникающий из нигде, когда мы начинаем перебирать в голове имеющиеся альтернативы?
Подобные аргументы можно развернуть и против любых других сложных явлений, которые невозможно свести к более простому уровню, чем целый организм с его физиологическими процессами, потребностями, интересами и жизненным опытом. Может быть, Роберт Сапольски способен показать своим оппонентам нейрон стресса? Или нейрон насмешливой иронии? Нейрон любви к баечкам и пространным отступлениям, чтобы покрасоваться перед читателем небанальными мыслями, кругозором и эрудицией? Или нейрон веры в детерминизм мира?
В своей книге Сапольски то и дело выбирает место и обстоятельства действия, позиции и аргументы, которые удобны автору, создавая у читателя иллюзию, что предложенные ему альтернативы — единственно возможные. Раз человек может зайтись в эпилептическом приступе, оказаться невменяемым по причине лобно-височной деменции или не поступить в колледж, потому что родился в неблагополучном районе, то о какой вообще ответственности может идти речь в уголовном процессе об убийстве с применением огнестрельного оружия?
Фактически, Сапольски подразумевает, что если у поведения есть причины, и ученые в состоянии их выявить и описать, то и нет никакой ответственности. Более того, любые причины полностью снимают с человека всякую ответственность. Вопрос, а так ли это, нигде в книге не поднимается, хотя такое предположение кажется колоссальным заблуждением (с внезапным переходом от научного объяснения фактов к этическим, а не научным оценкам этих фактов). Однако объяснение (в рамках науки) не обязательно подразумевает оправдание (в рамках этики и морали).
Я не могу похвастаться тем, что у меня есть настолько же четко выверенная позиция по вопросам свободы воли. Однако я не считаю, что определенность того, что уже произошло, противоречит неопределенности того, что может произойти в будущем. И это не про хаос, не про абсолютно непрогнозируемую случайность, которые Сапольски в книге противопоставляет предопределенности, в которую верит сам. Это как раз про вероятности, про неравновесные динамические процессы, которые могут из устойчивого равновесия переходить в неустойчивое. Вполне возможно, это и есть те развилки, где наш выбор может на что-то повлиять.
На мой взгляд, свобода воли — это не про божий промысел и беспричинную, внематериальную, бессмертную душу; не про божью искру, действующую вопреки физике и биологии. Это про сложных и разумных агентов, которые умеют воспринимать, обрабатывать и использовать информацию о мире в своих интересах. Этих интересов нет у генов, гормонов и нейронов — они постепенно формируются внутри психики, и если она не нарушена, как в случае тяжелых диагнозов, человек вполне может принимать то или иное решение, исходя из собственных интересов, и действовать, прогнозируя и понимая возможные последствия своих поступков, а потому и неся за них ответственность.
Конечно, свобода воли не может проявлять себя вопреки биологическим процессам. Конечно, то, из каких именно вариантов человек выбирает, принимая решение, зависит от его жизненного опыта и текущих обстоятельств. Но, в конце концов, и свобода перемещений — не про способность проходить через стены, взмывать вверх на три метра по собственной прихоти, переноситься за секунду в другое полушарие или заходить в чужие квартиры, как к себе домой. Однако все это — то, что у человека нет крыльев и способности телепортироваться, зато есть представление о частной собственности, — не означает, что свободы перемещений вовсе не существует.
Позиция Сапольски оказывается на противоположном полюсе от тех людей, кто верит в справедливый мир. Те считают, что человек полностью отвечает за все, что с ним происходит, не важно, идет ли речь о приговоре за умышленное убийство или об онкологическом диагнозе. Если с тобой что-то произошло, это связано с тем, какие решения ты принимал, и ты в любом случае это заслужил, — хоть пожизненный срок, хоть смерть от рака. Сапольски же вообще отрицает, что человек может нести какую-то ответственность за последствия любых своих действий.
От событий, произошедших секунду и миллион лет назад, зависит, где вы проведете жизнь и где будете искать любовь: у потоков прозрачной воды или же в удушающей копоти машин. Наденете ли вы на выпускной церемонии шапочку и мантию или будете собирать мусор в мешки. Чего вы, по мнению общества, „заслуживаете“: долгой жизни в достатке или длительного тюремного заключения.
Ничего „заслуженного“ не бывает.
Думаю, истина все же лежит где-то посередине.